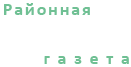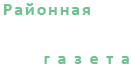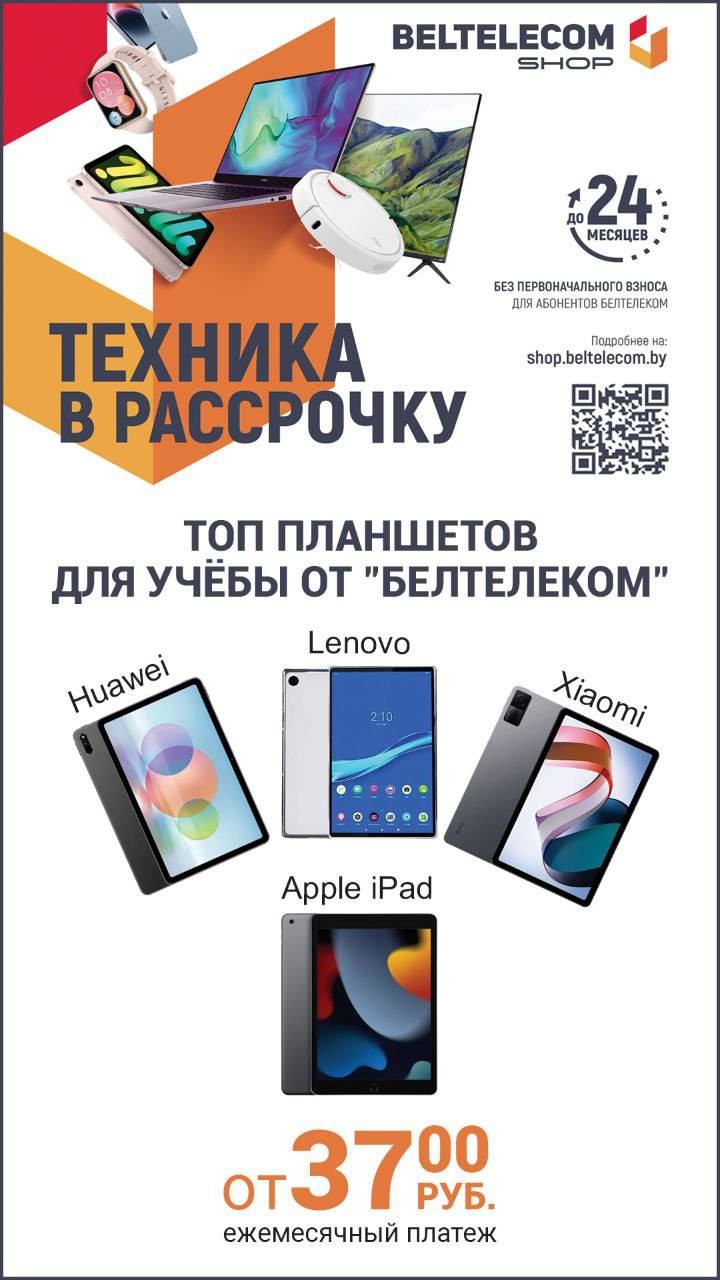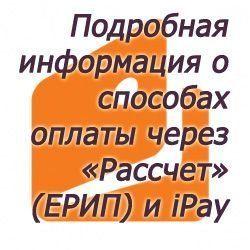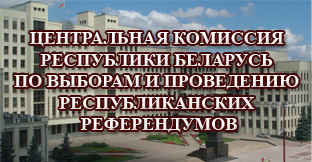Современные толковые словари предлагают примерно следующее собирательное определение сельского старосты: должностное лицо, выборное или назначаемое, ведущее дела в деревенском обществе. И в скобках неизменно уточнение: "дореволюционное" или хотя бы "историческое". Мол, слово в прежнем значении уже не употребляется. Хотя кто сказал? В нашей стране старосты в деревнях - не маленькая сноска на страницах истории, а вполне реальные люди, которые и сейчас помогают односельчанам решать проблемы и ставить вопросы ребром.
Институт сельского старосты начал развиваться в России в XVI веке и укрепился в середине XIX. Староста избирался сельским сходом на 3 года и имел право за маловажные проступки сажать под арест, назначать общественные работы сроком до двух дней и даже накладывать штраф в сумме до 1 рубля.
Наши старосты не наказывают (хотя, случается, что приходится отдельных сельчан увещевать, помогать им возвращаться на путь истинный). В основном же эти люди - помощь, надежда и опора тем, у кого та самая опора потихоньку ускользает из-под ног, - дают о себе знать годы, болезни, одиночество.
Избранный староста - полномочный представитель власти в своей, отдельно взятой деревне, своеобразный социальный работник для ее жителей.
Естественно, что староста - человек уважаемый, пользующийся непререкаемым авторитетом среди сельчан. Это человек, которому, прежде всего, верят.
Верить человеку - нелегкая задача в наше время. Мы ждали "эру милосердия", свято верили, что придет время, - и с дверей наших душ и наших жилищ исчезнут замки, потому что мы на генном уровне вспомним, что так было у наших предков, что мы - гуманны и добры, мы - славяне, мы - христиане.
Увы, перипетии последних десятилетий не только не содействовали приходу "эры милосердия", но и вовсе подрастеряли нравственные и человеческие устои. Потому так много и делается нашей властью не только в рамках законодательства, но и по возвращению духовности общества. А помощь старикам, людям пожилым и есть одна из составных этой духовности.
На территории Юратишковского сельсовета 15 старост. Все работают по-своему, это зависит от ответственности человека, от того, как он относится к делу. Староста - это первый помощник председателя сельисполкома в деревне: он должен знать нужды людей, ставить перед властью основные вопросы, сам оказывать помощь. Сегодня подворный обход, чтобы посмотреть, какая у кого электропроводка в доме, какая печка, - это тоже негласно относится к обязанностям старосты.
С другой стороны, нагрузка эта общественная. Потому говорить об обязанностях как-то не с руки. Просто в старостах ходят люди, которые все это раньше делали и без этой общественно почетной должности. Делали по доброте душевной, делали, потому что считали это выполнением каких-то своих внутренних заповедей.
К примеру, староста деревни Черкесы Ольга Зеноновна Дычок. Когда нам навстречу вышла еще молодая женщина, я сильно удивилась. Старосты, в основном, люди серьезного возраста, хозяева, сельчане с хорошим жизненным и трудовым опытом.

Чем же завоевала честь быть полномочным представителем деревни Ольга Зеноновна? Она улыбнулась в ответ:
- Да я специально и не завоевывала. Просто живу среди этих людей. Ведь это моя деревня.
В детстве жила на хуторе, который размещался между Черкесами и Бильмонами. Затем мать, оставшись вдовой, купила дом в Черкесах и переехала туда вместе со своей семьей.
Совсем еще юной в этой же деревне вышла замуж и Ольга. Стали с мужем жить отдельно, обустроили свой личный дом.
В деревне все на виду. И эта девочка, а потом молодая жена, мама двух девочек, а нынче - уже взрослых девушек, одна из которых - главный экономист отдела статистики в Министерстве статистики республики Беларусь, а другая - бухгалтер-аудитор частной фирмы в Минске, росла и взрослела на глазах этой деревни. Удивляла и умиляла своей преданностью родным местам, своей вежливостью, добротой, своей хозяйственностью.
В ее большом доме росли все черкесские дети в 90-2000-е годы. Так уж устроена ее материнская натура: хотелось, чтобы ее девочки росли на ее глазах. Боялась отдельных походов на водоемы, неопределенных игр. Потому вместе с подругами они "тусовались" здесь же: во дворе или доме семьи Дычок. Особенно летом и во время каникул (осенних и зимних).
Этой радости - звенящей голосами детей деревни - сейчас не хватает не только ей, но и всем сельчанам.
Стать своим в деревне нелегко, тут все на виду, двойная мораль не проходит. Говорить одно, а делать другое - не получится. Перестанут верить и уважать.
Она же - открытая, деятельная, живая и добрая. И это не в рамках обязанностей, она такая в жизни. Ведь всех тех, кто нынче порой пробует называть ее по имени- отчеству, она продолжает называть "тетями и дядями".
- Мне не сложно быть доброй и заботливой, - говорит Ольга Зеноновна, - я люблю этих людей. И мне так нравится чувствовать, что я им нужна и что я могу хоть чем-то облегчить их жизнь. Я люблю деревню, я страдаю из-за того, что ей так тяжело, что стареют ее жители, что остаются одни.
В Черкесах, некогда очень многолюдной деревеньке, живет 40 человек, имеется 18 хозяйств. Только 10 трудоспособных граждан, шестеро детей до 16 лет и 24 пенсионера.
И среди них - молодая, энергичная, деятельная женщина, отвечающая за жизнь в деревне. Женщина, которой, как она сказала сама, совсем не сложно делать добро. А все дело в том, что обязанности старосты уже давно "отрепетированы" и отлажены. Ольга работает кладовщиком Юратишковской городской больницы. Изо дня в день едет на работу в Юратишки из Черкесов. Сама за рулем много лет. И люди всегда просили с оказией то лекарства привезти, то какой-то вопрос в сельсовете решить, то подвезти в поликлинику, в больницу, выписать дрова. Как же откажешь соседям?
Когда институт старост начал действовать и у нас, в сельсовете ей предложили попробовать себя в этой, давно знакомой и привычной, ипостаси. Собственно, делать нужно было то, что она и делала многие годы. Только уже после выборов сельчанами.
- Люди у нас прекрасные, - говорит староста из Черкесов. - У нас нет брошенных стариков. Есть такие, у которых дети далеко, но они приезжают. А если случается, что некому уже приехать, мы сами решаем проблемы. Так, к слову, есть у нас старожил деревни тетя Вера Гурин, которой более 90 лет. Недавно умерла ее дочь, которая жила с ней, заботилась о ней. Есть еще сын в Кричниках. Но постоянно никто с женщиной не живет уже. О ней заботится соседка Марина Ивановна Белоус. Она не оформлялась социальным работником. Просто по-соседски, по-человечески приготовит поесть и себе, и одинокой женщине, протопит печки, выслушает ее жалобы. А вот убирает бабушка сама. Не любит, когда кто-то моет в ее доме полы.
Все обо всех знает староста. С кем-то на улице встретится, побеседует, к кому-то зайдет, о ком-то расскажут сельчане. Иные приходят к ней с просьбами сами, а потом собираются и едут вместе в сельисполком.
Вопросы те же, что и везде: земельные, брошенные дома, материальная помощь, выделение соток под посадку картофеля.
Под эгидой старосты решаются вопросы об уборке в деревне, обкашивании и т.д. В прошлом году все пустующие участки обкосил сельсовет. В этом году сезон только начинается. Но староста уже неназойливо указала запоздавшим с уборкой придомовых территорий, что пора делать весеннее благоустройство дворов и огородов.
Вот так, уже 8 лет являясь официальным представителем деревни Черкесы, живет староста, уполномоченный, просто обаятельная, милая женщина, чувствующая себя ответственной за жизнь деревни и ее людей, занимаясь задачей государственной важности, будучи своей среди своих…
В. ГУЛИДОВА.
Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.